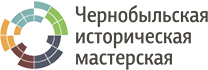Олег
Олег
- Ліквідатор
Дата народження:
Місце народження:
Місце проживання:
Професійна діяльність:
Час, проведений у Чорнобильській зоні:
Роботи, виконувані у Чорнобильській зоні:
В.Н.: Сегодня 31 мая 2018 года. Находимся мы в городе Днипро в помещении “Союз Чернобыль Украина” Днепропетровской области. Я – Виктория Науменко, беру интервью у Геращенко Олега Васильевича. Добрый вечер.
О.Г.: Добрый вечер.
В.Н.: И первый мой вопрос к вам будет очень такой обширный: расскажите, пожалуйста, о своей жизни.
О.Г.: Да о жизни – что там рассказывать о жизни?
В.Н.: Ну, можно самое, вот, что считаете нужным.
О.Г.: Вырос без отца. Мать все время работала. Принадлежал улице, вот. Что еще? Ну, в хорошем смысле слова, потому что раньше у нас была улица – это футбол, волейбол, когда поспели черешни – это черешни, первые черешни. Абрикосы – значит абрикосы, вот. То есть, у нас не то, что сейчас: приехал я, спрашиваю: “Ну, тут в футбол играют в этом парке?” “Нет, – говорит, – только бутылки вот там возле речки видел?” Только сидят и отдыхают. Вот, время какое, время было разное. То есть, мать работала, а мы – за грибами. Я вырос в Черновцах, в Сад-горе.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Вот, за грибами по пять-шесть раз наверх, притащил грибов, мать жарила, сначала варила два часа. Она у нас тут с Петропавловки, Днепропетровской области, этих грибов никогда не видела, а потом жарила их, а потом мы ели их маленькими, но вкусными, вот. Честно говоря, в детстве, что помнится, когда мать работала на колбасном цехе – у нас была колбаса и висела петлями на кровати, потому что ни шкафов, ничего тогда не было, ни буфета, ничего не было. Я помню, и четко разделялась колбаса: она была свиная, говяжья и конская, три вида колбасы. Что еще? Ну, борщ варили только в субботу или в воскресенье. Нет, наверное, в субботу, потому что ходили, купили кусочек мяса и варили. Вот. Ну, и так я пошел там в первый класс, занимался… Ну, занимался свободно, я тебе скажу, ни особо… принуждения никакого не было, потому что контроля надо мной не было. Ну, я у друзей, там у меня были друзья на улице, целый день проводил там, считай, тоже. У меня был художник, Чайка, такой, Павел, друг, он меня рисовал, вот. Ну а потом собирали команду на футбол, и когда проходишь, не хватает там человека, а идешь к нему, он говорит: “Ты знаешь, мать сказала, кукурузу почистить”, – и мы шли кукурузу чистить. Почистили кукурузу, ну не всегда он шел играть после этого. Мы тогда его очень не любили.
В.Н.: (Смеется).
О.Г.: Вот, тому надо огород вскопать – мы шли копали огород, потому что человек надо, а не хватает, вот. То есть, жили мы как? Ну, это такая часть горная все-таки, затапливало часто.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Оно и сейчас затапливает, но меньше. А тогда и мосты плыли, и плыли туалеты с мужиками, и коровы плыли, и мосты такие, что деревянные большие. Ну а летом ту речушку перейдешь шагом, я мог тогда перейти, но она разливалась метров на пятьдесят и потоком шла страшным. Ну, в огороде я садил много раз вишни, потом их выносило. Но польза была из этого только одна, что открывались всякие слои истории, можно так сказать, потому что поднимался слой, а там смотришь – монеты, смотришь – еще что-то такое, австрийские, немецкие, польские, какие хочешь. И вот это в огороде я мог находить это всегда. И вот тогда не было интереса такого собирать, но где-то как уходило куда-то, пропадало, вот. Потом в четвертом классе меня отправили учиться в интернат. Там у нас построили интернат. Ну, конечно, там еще забавней было, потому что туда целый детдом перевели и там было очень весело. Ну, математик, конечно, на голове детдомовцев несколько линеек поломал, вот. Я тоже, так это, был… Помню, английский язык почему я не выучил, потому что у меня учительница попросила держать плакат. Ну, она в очках такая, и там какие-то выражения по-английски написаны, ну, я, так, начинал его хорошо учить. А я посмотрел с этой стороны – свинки, и развернул – и класс сразу падает смехом, потом – раз, так, потом обратно. В итоге она узнала, то я все-таки что-то делаю, взяла меня за шиворот, коленкой под зад и аж на той стороне коридора очутился, и говорит: “На обед не приходи”. Я пришел кушать, я уже забыл про это.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Тут кричит мой друг, этот же Чайка Павлик, художник, она его за уши оттянула, а потом говорит мне, подошла уже: “Силы иссякли, – говорит, – я из-за тебя такого хорошего мальчика наказала”. Но бог мне не простил – я заболел свинкой и на месяц вернулся домой к маме, и в итоге не выучил английский язык и всю жизнь страдал из-за этого. Пытался потом покупать книги, учить как-то сам, но не получается до сих пор. Вот такая была веселая жизнь. Потом я вернулся опять в школу, вот. Четвертый класс только отбыл там и вернулся в школу к своим подругам, которые и сейчас со мной общаются. Ну, а так бегали по лесу километров по десять к воде, покупаться, там же не так много, ну, пруд в одну сторону, а в другую ставок там был и мы бежали: молодые, здоровые, сильные. И шли в лес, собирали малину. Наберешь литровую банку сахара и бидончик для малины и вот это, наелись и малины и собрали бидончик, и принесли домой. Вот такая была жизнь. Мы работящие были и вольные, потому что можно было колыбу в лесу сделать и всем в этой колыбе заночевать. Ну, мать мне строго запретила, я не ходил, я утром к ним приходил, вот. Ну, они бывает так, что и обнесли черешню у бабы Рахили, а у нее там было десять черешен, видимо-невидимо, она их и меня тоже засекла и сказала: “Каждому по корзинке”. И – вперед наверх, корзинка – рубль, а тогда рубль были деньги.
В.Н.: Ну да.
О.Г.: И как она нас припахала (В.Н. смеется), что мы на нее… Только так: с хвостиками рвать, так, чтоб на базар, и отнесла. И мы давай работать на бабушку Рахиль, вот. Ну, вот так, весело оно проходило. Чай вот этот, мы пьем чай, а раньше мы другого чая не знали, мать говорила: “Липа зацвела. Бегом бери мешок, липы и на чердак”, – и мы всю зиму пили липу. Так что жизнь была веселая. А потом, уже в старших классах у моего друга был водитель пожарной машины отец и он начал нас привлекать бегать препя… полосу препятствий, как она тогда была. И мы эту полосу бегали, на всяких соревнованиях городских. Потом, окончив школу, я пошел на машиностроительный завод работать учеником токаря, а потом токарем. Карусельщиком, такой большой карусельный станок, который так крутится внизу, пульт управления, вот. Ну, и, конечно, там тяжелая работа была.
В.Н.: Угу.
О.Г.: А мой друг в это время, я уже год учился в училище, пришел в форме, красивая форма, во Львове. А у меня чугун в этих самых, в руках вот тут вот, не вымоешь его, вот, и я думаю: “Ну добре, поеду”. Поступил, вот, ну, там есть фотографии – я на картошке. В училище тоже там посылали, там не давали отдохнуть, сразу всем тем курсантам, которые поступали, и нас в Городок Львовской области всех на картошку. И вот он я есть лысый на фотографии – это я на картошке и со мной покойный начальник управления, бывший начальник училища Косивченко. Не помню, как его звали – Косивченко, замполит был у нас, вот. И он так вальяжно сидит еще, он сам замполит, но потом он был начальник училища, этот замполит, вот. Училище тоже интересное у нас. Учили мы все, все производства абсолютно, все зрелищные учреждения, клубы, театры и кинотеатры, все заводы, технологию заводов. Учили газовые скважины, что потом пришлось нам, и там есть фотография, где мы на тушении газовой скважины. Учили, тогда нам преподаватели предавали, хорошо преподавали. Говорили так: “Ваши знания повлияют на оценку как перелет мухи с Москвы до Санкт-Петербурга на затмение солнца”. Вот, так что, нет, учились мы здорово так. Преподаватели были строгие. Я помню, математик тех, кого любил, он ставил кол, а тех, кого нет – двойку. И он так говорил: “Ну, сегодня мы к доске приглашаем курсанта Еханошкина. А зачем нам курсант, когда у нас есть целый старший сержант?” А старший сержант говорит: “Да нет, я же был в наряде! Я не могу так! У меня голова – не Дом Советов”. “Ага, – говорит Полировсен, – вы свою голову с Домом Советов, с архитектурными памятниками сравниваете? Вам двойка”. А мне как-то кол поставил. Я докладываю ему: “Коловики в лекционном зале номер два собраны!” И, честно говоря, он мне тогда дал работу какую-то, я ответил, и эта работа мне попадается на экзамене, и он мне поставил пять за математику. Так что вот такая там была учеба. Ну, учеба, там, серьезная. Там наряды, там мы с оружием всегда были, у нас свои автоматы, пистолеты мы изучали, стрельбы из пистолета, из автомата. Марши, когда надо было бежать и много. А были такие азиатские ребята, которые бегать не умеют с нагрузкой – брали у них автоматы и давай, лишь бы, лишь бы группа вышла вперед, понимаешь, так. Ну, коллективизм был такой везде. Ездили на пожары там, уже на старших курсах ездили на пожары, выучили, автомобильное дело учили, там все это, ну, подготовка была нормальная. И потом я по распределению попал в Днепропетровск.
В.Н.: После окончания, да?
О.Г.: Училища, да. И, вот, в Днепропетровске я проработал в пожарной охране 25 лет. Ну, с училищем – 25 лет. И был и инспектором, был начальником караула, потом был помощником начальника штаба, потом был зам начальника пожарной охраны города Днепропетровска, по службе. Ну, конечно, когда был инспектором – это один вариант был, жена всегда говорила: “Я за инспектора замуж выходила, а ты стал, – говорит, – замначальника или в штабе работаешь, одни вонючие грязные вещи приносишь”. Так что… Ну, такая работа была и там интересная, делали, кто делал, тот интересно жил, честно говоря. И вот такая служба 25 лет, потом где-то перед концом… Нет, ну, то, что нас в восемьдесят шестом году послали в Чернобыль, если об этом говорить, то сначала наш начальник управления был в Чернобыле, его туда вызывали, Ерофеев. Он приехал, рассказал, что нам надо делать, какие задачи, поставил. Мне попалась задача подготовить две парилки, деревянную часть полностью, ну, сложить ее и потом разобрать и на машину.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Потом респираторы, потом белые шапочки, вплоть до того, что поварские все вытянул шапочки с баз. Ну, всего это надо было достать и перед Чернобылем нас где-то 15 июня, я не помню четко дату, отправили на Курскую атомную. Ну, там есть фотография: мы в Курске, это в городе Курчатове, потому что она такая же самая как Чернобыльская атомная станция. И нам надо было изучить ее, потому что мы оставались одни в этой станции. Я не говорю, что одни, в главном щите управления были люди, но в зале, везде по минусовым отметкам, в здании была ночь наша. Вот, а почему мы это сделали, что пожарная машина прямо дежурила в турбинном зале? Мы туда приехали, вот, 200 человек, я говорю, 204 человека, ну, если так взять вот это, вот, что она будет работать от связи. Наши, те, кто туда прибыли, вот, завели сразу, вот… Мы приехали, меняли Черкассы и тут – вызов, бочка горит в Чернобыле со смолой. Вот, и я выехал, я, Геращенко, ответил, что там уже ликвидировано до нас. Ну, а мы как-то вышли на атомную станцию и там делали дезактивацию солдаты. А что такое дезактивация – это такие квачуни, ведро, и они наносят раствор на турбины, на зал, на все. А раствор этот потом превращается в пленку, вот, и, как бы, вбирает в себя радионуклиды, дезактивация таким образом делалась. Ну, наш покойный Якименко Борис Александрович, который у нас тут работал, даже ездил на машине на этой, еще в прошлом году, 26 апреля, вот, и он почувствовал запах спирта и говорит: “А ну, что ж это за раствор у вас там такой? И что это за пленка в итоге?” Отрезали кусок пленки, поехали в Чернобыль, и там даже есть где-то фотография, но такая мутная, когда поджигают эту пленку. И оно сгорело, ну, как порох сгорело, и оказалось так, что весь турбинный зал, а это 600 метров до строящейся стены биологической заполнен, покрыт такой пленкой, если что-то произойдет, нельзя ничего спасти, потому что в турбинах и масло, в турбинах и водород, то есть это все надо было делать что-то. И доложили комиссии, комиссия правительственная решила сделать разрывы между турбинами, разрезать это полотно, и поставить одну пожарную машину с руководителями именно для того, чтобы на всякий случай ничего не произошло. И потому мы изучали в Курчатове эту станцию, потому что в станции более двух тысяч помещений. Минусовые отметки – это кабельные тоннели, склады ГСМ. Надо знать, где они находятся, сигнализации специальные, дренчерные установки – это активного пожаротушения, надо тоже было знать их, где их можно включить и так далее. И хотя бы знать, что если дверь становится толще и толще, то ты идешь к реактору, а если тоньше – то ты идешь от него, и это важно. Потому что когда не видно ничего, выключена электроэнергия при пожаре, как правило, то с фонариками много не увидишь, вот.
И мы приступили к дежурству там, это было 6 человек людей. Ну, и был такой случай, когда солдат вместо того, чтобы вылить бетон в биологическую стену, которая была такая, как стол еще тогда, он выливает бетон на первое колено бетоноукладчика, который монтировался в условиях высокой радиации 17 суток, а он алюминиевый, американский, очень много стоит одно колено даже инвалютных рублей, вот. И это было, как пишут вот тут мои коллеги в этой книге: “В пять утра где-то, в пять десять утра выехало отделе…”, – я не мог брать свое отделение, потому что задачи у них разные совсем.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Выехало отделение с Чернобыля, и, честно говоря, в этом отделении я, вот, смотрю, кто сейчас, я прочел, увидел, что в этом отделении были действительно, я помнил одного Троца, такой был командир. Почему, потому что он когда выезжал в Счастье, там садился молодой парень. Он говорит: “Ты молодой, тебе нечего делать на станции”. И все сам, и когда я контролировал, сколько им можно работать в условиях этой радиации, то они, первый говорил: “Нет, я буду работать больше, а молодежь пусть постоит”. И ничего нельзя было сделать. И действительно – когда отправлю, так посмотрел, время прошло. Он первый умер, в 88-м году он уже умер, этот человек. Вот, ну, такие, как бы, ребята, очень… Ну и работает, я вижу, что в 5:30 второе отделение воинской части номер 1 и состав: Криштов, Капелька, Мирошниченко, Фирко, Шпаченко, Жвирко и Троци выехали сюда. Жвирка нет, Фирка нет, Троца нет, Криштов тяжело болеет, понимаешь? Капелька тяжело болеет. Вот, вот тебе этот состав, который я четко знаю, что он был и работал в очень тяжелых условиях.
В.Н.: Угу.
О.Г.: А так, конечно, было, и были такие случаи, когда, например, сварщик, которому работать 2-3 минуты, он бросает свою робу на сварочный аппарат, бросает электрод, не смотрит, оно коротнуло, загорелось, горит этот… Его роба горит, задымление в турбинном зале. Это тоже в условиях такой там высокой радиации! Ну, мы там, инспектор был и я, подбежали, ликвидировали. Ну, горело у нас еще что там? Шахтеры, шатер такой сделали под блок, и он, электричество там на соплях все же, он тоже загорелся, тоже, это в наше время. Ну, и военная машина разграждения тоже загорелась, внутри у них что-то… Но были случаи, когда “Касагранда”, это такая установка итальянская, которая делает стену в земле.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Копает 40-метровую как траншею и заливает специальным составом с глиной, чтобы грунтовые воды не просачивались в самой станции в окружающей, на окружающую территорию. Ну, и в итоге эта “Касагранда” перебила водопровод. Тоже пришлось нам туда лезть, искать задвижки, а сначала надо откачать воду, потому что и специалиста туда не пошлешь, потому что все в воде. Такой случай был на станции. Ну, и приходилось, поскольку у меня был прибор измерения уровня радиации ДП-5а, я мог ходить и смотреть, как я прохожу. Вот, например, иду я наверх, туда, куда первые пожарные шли, а в рукаве – рентген, понимаешь?
В.Н.: Угу.
О.Г.: В районе главных циркуляционных насосов, тоже они разрушены, помещения, тоже высокая радиация, туда пошел – невозможно. Ну, честно говоря, когда ты находишься там месяц, а рабочие станции – им надо 5 бэр в год заработать, понимаешь, то когда я говорю: “Дайте сопровождающего, чтоб пройти минусовые отметки, кабельные туннели”, они говорят: “Нет, на тебе ключи и иди туда”. Ну, я, чтоб самому не идти, все-таки самому опасно как-то бродить, беру командира отделения и он как-то встретил, говорит: “Олег Васильевич, ты меня таскал там, где не надо таскать”. Но он, слава Богу, живой до сих пор.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Вот. Ну, там вода ж, это все. Ну, он был на блочном щите, 4-го реактора блочный щит, но он такой весь разрушенный, как бы было помещение, вот такое темное по сравнению с блочным щитом 3-го реактора. Приходилось быть на пятачке самого реактора 3-го, понимаешь, там, где загружаются твелы, там такая установка и опускают тепловыделяющиеся сборки вот туда. И там, ну, в общем, по станции, мы работали непосредственно на станции. Приходил туда, куда солдаты выходят на крышу, допустим, и видел одного солдата, который прибежал, я говорю: “Где ты был?” Он говорит: “Я от робота соединял папку и мамку”.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Электричество, потому что электрическую часть. Робот через парапет перешел и, ну, и, как бы, оторвались они. Ну, высокая там радиация, я не знаю, что там Михаил Спиридонович сказал, он больше по радиации, мы ж все-таки не специалисты. Ну, он мне назвал ну очень большие показатели, где он был, честно, и где этот солдат трудно сказать. Это же ж СССР – таких солдат стояла полная лестничная клетка. Честно говоря, сверху донизу, и поработав несколько минут, ну, в этой амуниции, которая сама по себе уже излучала, они выходили курили. Я им говорю: “Что вы курите здесь?”, – говорю, ну, рентгена там не было, но где-то половина была. А он снимает респиратор, сел возле РБК-2 и курит. Ну, я об этом говорю, потому что это моя была специальность и все-таки надо было, не замечать нельзя было.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Ну, вот таким образом мы 8 часов дежурили на самой станции, а потом нас БРДМ был такой бронетранспортер, на нем мы возвращались. Машина оставалась здесь, людей привозили новых. Но я когда был еще несколько дней в майорских своей, в форме майорской, да, то раз говорят: “Пойди проверь на бета-излучение”. Я пошел. Он говорит: “Стань только там в двери”. Включил и говорит: “Немедленно снимай всю форму, иди переодевайся, потому что в таком ходить нельзя”. Ну, и, конечно, с того дня мы переоделись, вот там есть фотография, где мы в бахилах, все в белом. Ну, честно говоря, одевали хорошо, начиная от носков до тюбетейки. И каждые 8 часов – мы отдежурили – в душ, все сняли и одели новое, что нельзя сказать о солдатах, потому что они иногда респиратор военный таскали по 7, по 10 дней. Вот. А мы меняли все-таки каждый день. Но находились там, в помещениях химводоочистки, прямо в турбинном зале, там мы находились, вот. Брали с собой, как правило, сухой паек. Ну, многие спрашивают: “Радиация видна или не видна?” Конечно, когда ты не думаешь о ней, то она не видна. Но когда ты идешь и видишь, что одна шкала уже зашкаливает, надо перейти на другую и так далее, то ты чувствуешь, что сухость во рту, потеть начинаешь, вот, и ты чувствуешь эту радиацию. Вот, ну а так что можно сказать? Отдежурили 8 часов, но и поскольку я был помощником начальника штаба, я мог заняться другой работой, сразу же приехать и если это день, то мог поехать к тем, которые тушат торфяные пожары, а если посмотреть вот эту, журнал пункта связи, то здесь увидишь, что тушили зону каждый день.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Вот, и когда приезжаешь к этим ребятам, привозишь, захватываешь с собой обед обычно для них, садишься с ними кушать, обедать, они говорят: “Ну, борщ вы привезли, а у нас, вот, чеснок хороший”. Туда-сюда, начинаешь кушать, а потом раз, смотришь – я говорю: “Откуда чеснок?” “А мы тут выкопали!” Я говорю: “Ну как же так, выкопали?” В общем, такие были случаи, когда… Ну и конечно, поселили нас там жить уже в Чернобыле. То, что мы были пожарной частью, это само собой несли службу: там наряды, части и так далее. Ну а мы в училище, в общежитии, вошли в училище – и команда вытереть же, вымыть окна, все вычистить, чтобы там чисто было.
В.Н.: В самом Чернобыле, да?
О.Г.: Да, в самом Чернобыле, мы же месяц не выезжали. Вот, некоторые приезжали в Чернобыль, один день побыли в то время, я имею ввиду до 1 июля, и уже имеют статус – он ликвидатор такой как я, одинаковый, абсолютно. А мы – месяц работали мы на станции, а с зоны не выезжали, но этого требовала постоянной боевой готовности людей, в случае чего, чтоб были. Мы закрывали всю зону, не только станцию. Ну, что еще мы там? Ну, были такие случаи, знаете, когда наш начальник, он сейчас живой, слава Богу, дал команду: “Вы же мне привезите со станции кондиционер”. Привезли кондиционер, вот, но кондиционер-то стоял где? На станции.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И когда его включили, то в помещении уровень радиации сразу поднялся (смеется).
В.Н.: Вам жарко было, да?
О.Г.: Им пришлось дезактивировать помещение. Вот, ну, и были такие случаи, когда, я помню, приезжают генералы. А у нас шлагбаум такой и вместо противовеса – свинец. Прямо со станции привезли свинца, вот, там свинца по… Генерал говорит: “Так тяжело смотрится”, – мы быстренько белым покрасили. – О, теперь легче!” – говорит. Ну и, конечно, свинец давал свое, потому что я на одном совещании был у директора станции, и директор сказал… Вот, там генераторная решетка, это этажерка, по которой ходили на реакторы люди, она так пронизывала все здание. И она закрыта свинцовыми панелями, и он говорит: “Хорошо, радиация – хорошо, но сейчас, – говорит, – окислы свинца, мы скоро станем все слепыми”. Понимаешь? И дал команду, они ж ставили когда-то, а тут надо убрать весь этот свинец, и люди убирали. Открыли, как бы, уже все это. Ну, приехал я, но то, что бывали случаи, мы ж на этих бронетранспортерах ездим, а там же ПУСО, выезжать из станции – ПУСО-1.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Моет, моет бронетранспортер, едешь на ПУСО-2. ПУСО-2… ПУСО-1 отличается от ПУСО-2 уровнем разрешенной радиации для продвижения в зону дальше, понимаешь?
В.Н.: Угу.
О.Г.: Или выезда из зоны, и здесь помыли так: “Ну, едьте. Там – нет, с таким уровнем вы проехать не можете, возвращайтесь назад”. И нас гоняют, а если ты в 12 ночи сменился, и тебя гоняют, гоняют, понимаешь, а бывает пересменка, что утром опять заступать. Ну, то мы раз – срываемся и поехали в Чернобыль. То есть, грязь эту возили люди, конечно, потому что делать нечего было. Хуже того, когда я принимал у Черкасс станцию, и там насосная наша пожарная станция стояла на водоеме, воду качала, и, честно говоря, я так открыл с ним кабину водителя, и там стоит аккумулятор, мы быстренько померили – ну до рентгена в этом аккумуляторе. Но когда я уже сдавал станцию, то этого аккумулятора уже не было, кто-то его забрал и на машину специальную поставил, и у него реактор был под задницей, понимаешь? Потом такое же положение было и с дипломатами – тогда очень модны были дипломаты. Зашел я в ленинскую комнату с черкасским представителем, и посмотрели – дипломаты ребята оставили, но грязное, все грязное, уровень там грязный был.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Когда я сдавал, уже этих дипломатов не было. Где они делись – я не знаю. Или разъехались по Советскому Союзу, или куда они делись? Трудно сказать. Ну, честно говоря, что когда мы приехали, вот, я перепрыгиваю так, когда мы приехали в Курчатов, в город, то у нас один представитель был с Киева. Вот, Кравченко? Василий, по-моему. И когда мы проходили через рамку, то мы-то прошли с Днепропетровска, а он с Киева не прошел, у него штаны так фонили! Говорит: “Ты был на станции?” Он говорит: “Нет, я был только в Киеве”. Так это к тому, как был Киев загрязнен тоже, понимаешь? В то время, вот. Но быстрее ему штаны сняли, все сняли и он пошел с нами. Они нам рассказывали, главный инженер и главный технолог, главные специалисты, все станции. Ну, вот, что там еще можно вспомнить такого по станции самой?
В.Н.: А, вот, вспомните, пожалуйста, как вы вообще узнали об аварии на Чернобыльской атомной станции. Вы помните вообще, как вы услышали об этом?
О.Г.: Нет, ну я дежурил, я помню, я дежурил в штабе. Я дежурил здесь, в штабе пожаротушения и информация сразу же. Она же у всех, связь есть с Киевом.
В.Н.: То есть, уже 26-го апреля вы узнали?
О.Г.: Мы уже знали, что что-то произошло, как пишет здесь этот самый, наш начальник управления. У него такая, он когда к нам, перед нами выступил, я его, сейчас я, секундочку, найду как он сказал. Он у меня первый должен быть, сейчас я посмотрю (ищет), где это? Не вижу, не вижу, так, секундочку. А, вот он говорит: “Плохого ничего нет, – говорит, – а хорошего еще меньше”. Вот так он сообщил нам об аварии.
В.Н.: А, вот, вы понимали, как бы, весь, весь ужас этой аварии? То есть, вот, когда именно для вас, лично для вас вообще пришло осознание той катастрофы, которая произошла?
О.Г.: Дело в том, что мы ж направлены на чрезвычайные ситуации, по своей специальности. Я тушил в марте только 86-го года в Киришах, под Ленинградом десятитысячник, десятитысячный резервуар бензина.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Я там был на учебе и принимал участие в этом деле. И, честно говоря, мы тушили газовые фонтаны, 15 суток тушили газовый фонтан. Мы такие вещи – готовы к ним. Но как повлияет радиация – мы, собственно говоря, тогда не знали. Вот, каждому нам дали команду заполнить заявление, что мы идем добровольно.
В.Н.: Даже так?
О.Г.: Да, мы написали такое заявление, что мы добровольно идем туда. Ну, может, это связано было со страховками, с чем-нибудь таким. Но для нас-то все равно, мы носили погоны и зная все, и потом, у нас же тут дети, семья и кто должен был идти если не мы? Понимаешь, тут говорить, что вот, я бы не пошел, я отношение к тем, кто не пошел… А не пошли кто? А не пошли те, кто принес справки, что они имеют хронические заболевания и так далее. К ним отношение было, конечно, не очень. Но в то же время они и выиграли, потому что они могли дальше служить, могли дослужиться до каких-то должностей, до какой-то зарплаты, выслуга лет у них больше и так далее, понимаешь? Тут тоже есть свои нюансы, но мы так не поступаем, вот. Так что, ну раньше ж какая команда была? Я помню, мы учили гражданскую оборону, и команда была такая: вот территория части, а в районе ГСМ упала атомная бомба. Ну, до ГСМ было 70 метров. Но что говорить? А мы придумывали как это – защититься, что надо делать, мы знали альфа, бета, гамма, какие есть изотопы, вот. Но знание было такое, да, мы изучали те же приборы, разведки, вот. Изучали средство защиты, что такое дезактивация, все изучали, но представлений не имели о полном факторе последствий после этого. Честно говоря, я когда приехал сюда, с женой мы приехали в санаторий в Литву, в Латвию.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И мне команда с нашего медицинского отдела именно в Риге, в МВД пройти, в больнице сдать кровь и пройти. Я помню, я сдал кровь, у меня лейкоциты были меньше единицы. Только вот здесь я взял книгу, мне подарили тернопольские участники других ядерных катастроф или других аварий, и там у них, я смотрю, информация, что если на точке, где была установка ядерная, проверялась эта установка, ее готовность с помощью всяких ядерных приборов, при проверке люди получали какую-то степень облучения. И вот, если у них лейкоциты меньше двух, то их списывали с этой установки вообще. У меня лейкоциты были через 3 месяца меньше единицы.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Понимаешь, и только сейчас я так сравнил. Но нам никто об этом ничего не говорил, болезнь у нас была – вегето-сосудистая дистония.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Хотя мы прибыли оттуда, у нас начались рвоты, что говорит о лучевой даже болезни, и многие, у меня 18,7 рентген, а у тех, которые даже меньше были, они пересчитали по зубам, зуб, брали такую технологию, то у них было более 115 рентген. Понимаешь? Ну, я не пересчитывал, считалось и не надо. Говорили: “Это неважно”. Так что вот так, что можно сказать?
В.Н.: А когда вас отправили в Чернобыль, то есть я немножко из вашего рассказа не поняла, когда вы в Курчатов поехали и на какой период времени?
О.Г.: В Курчатов мы поехали на неделю где-то с 15 июня.
В.Н.: С 15 июня, а после этого вас сразу из Курчатова в Чернобыль или через Днепр?
О.Г.: Да, мы приехали сюда.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Приехали. Один только у нас уехал, сразу его вызвали, полковник Пушко. Его вызвали в Чернобыль, он уехал чуть раньше с Курчатова. А мы 25 июня построились, здесь у нас есть часть 19-я, и из 19 части мы, 200 человек, полностью с области, 204 человека, с техникой, с теми банями, которые я делал, парилками загруженными, поехали. Потому что у нас команда была такая: вы можете располагаться в открытом поле, потому мы готовились для того, чтобы расположиться в открытом поле. Но приехали – нас расположили в пожарной части в Чернобыле.
В.Н.: Угу.
О.Г.: При этом Черкассы работали там 15 дней всего. И они спали в палатках на улице. А мы все-таки помыли эти помещения и, честно говоря, уже отделывали наши люди помещения и плиткой, и делали душевые, готовились к зиме, чтобы люди могли работать там и в зиму. И, честно говоря, когда начальник там, Гбуря Леонид Иванович такой, сводного отряда, он руководил, давал команду снабженцам нашим. Где у нас находится плитка, на каких складах в зоне? Ехали и брали эту плитку, и ложили там, и все это дело. То есть, работа, то есть люди постоянно работали.
В.Н.: То есть, работали смену на станции, возвращались и…
О.Г.: Да, возвращались и что-то все равно делали. То искал водопровод, надо было, мы возили воду же у нас в часть машинами, хотелось взять с артезианской скважины, и я согласовал, вроде, с водоканалом, что мы возьмем. Дал команду, чтобы прокладывали линию.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И тут они звонят: “Нет, мы не разрешаем”. А линию уже практически проложили. Так мы, начальник части, такой есть Киселев, до сих пор говорит: “Вот ты такую команду дал, ненужную, понимаешь?” Ну, видишь, так оно бывает, команда ненужная, а люди облучились. Ну, это не так может быть, но все равно ошибок было много. Наверное, даже та ошибка, что очень много техники туда пригнали, и нашей техники, и другой техники, много людей облучили. Вот, в Фукусиме, там ограниченное количество людей было ликвидаторами, а у нас было 800 тысяч по Союзу. Вот, у нас было 24 тысячи, около 24 тысяч по Днепропетровской области ликвидаторов. Ну, это третье место в Украине по количеству ликвидаторов, потому что у нас все-таки здесь были специалисты, вот. Так что мы тут вопрос готовыми были, знали-не знали, если б знали, шли бы или нет – но мы все равно шли.
В.Н.: А когда вы там находились – вы довольно долго там были – какие вообще были, вот, у вас взаимоотношения? Вы, в принципе, получается, со своими же туда приехали, с теми, с кем вы работали и в Днепропетровске, да?
О.Г.: Да, в Днепропетровской области. Ну, я работал в штабе пожаротушения областном.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Я работал со всеми подразделениями, но командиров и начальников я всех знал, конечно, а личный состав – ну, с личным составом познакомились там, ближе уже непосредственно, когда руководил ими. А так начальников караулов я знал. Допустим, если это Днепропетровск – вообще они все время на моих глазах, ну, я боевую подготовку проводил. Всех знали, конечно.
В.Н.: А какие, вот, именно там взаимоотношения, может, вот, какие-то ситуации были интересные, запоминающиеся?
О.Г.: Ну, взаимоотношения у нас вообще-то братские всегда были в пожарной охране. Честно говоря, я когда был помощником начальника штаба, я руководил сменой, допустим, я всегда, допустим, в соревновании на нашей пожарной башне, но перед этим будет футбол. И, честно говоря, собирал там четыре отделения людей, на стадионе здесь, на нашем “Металлурге”, сейчас большой стадион там, и мы играли в футбол. Почему? Когда играешь в футбол, ты знаешь, на кого можно положиться.
В.Н.: Угу, проверяли?
О.Г.: И мы играли в 13-й части в футбол, это на шинном заводе, в 4-й части мы играли в волейбол, и этих людей, когда ты уже знаешь людей, что он может, вот, то ты и на пожаре знаешь, и он тебе доверяет, он тебя знает. И он тебя слушает, потому что это важно. Ну, мы в то время никогда не делили, как бы, чья это работа, пожарного или моя работа. Вот, если там посмотреть на газовом фонтане, у меня всегда телогрейка была такая в машине и боевая одежда. А телогрейка зачем? Потому что летом от жары надо спасаться, потому что опустишься в туннель – ничего не видно, температура, в противогазе и когда подходишь к очагу пожара, а надо продвигаться, дают воду, ты дал воду, а оно как в парилке, знаешь что такое парилка?
В.Н.: Угу.
О.Г.: Ну, помню, тут убежище тушили на братьев Трофимовых и мы приехали с Нестеренко, был у меня начальник, никто не входит в убежище! Говорим: “Что такое?” Одели противогазы и ползком! Нестеренко последний, я первый, между нами солдат – и мы ползком залезли туда. Увидели, что оно горит, но температура высокая, нельзя же даже подняться и как дали стволами, а оно даже штукатурка отваливается от арматуры и падает на голову, а там, оказывается, завезли мебель для больницы и она вся загорелась.
В.Н.: Ммм…
О.Г.: А кому-то или случайно, не знаю как. Мы, мы участвовали в тушении, мы всегда были вместе с личным составом и, собственно, там, и кушали вместе. У меня был водитель, он принес как-то гриб, ну какие здесь грибы? Ну, есть грибы, да, а то с дерева, с тополя что ли вот такой гриб принес!
В.Н.: Угу.
О.Г.: Я говорю: “Что ты притащил это?” “Будем есть!” – говорит. Я говорю: “Ты что? Не может быть!” Порезал, туда-сюда, сварил, поджарил – съели, живые, понимаешь?
В.Н.: Не побоялись?
О.Г.: Не побоялись. Ну, он дал гарантию, что это нормально, то есть мы вместе и питались, все вместе.
В.Н.: А вот когда вы в Чернобыле были, был ли такой-то, вот, досуг: для вас, для вашей команды? То есть, там в футбол не играли, или, может, концерты какие-то там были кого-то? Туда приезжал…
О.Г.: Я лично не был ни на одном таком мероприятии, чтобы в то время, в июне месяце еще никто не приезжал так. У нас были только совещания, были общие мероприятия, собрания, обсуждали все: дисциплину, как вести себя. Были партийные собрания, хотя я непартийный был, вот, ну, было все такое. Ну а так, концерты, досуг… Досуга, собственно говоря, какой досуг там?
В.Н.: Рыбу не ходили ловить (смеется)?
О.Г.: Да не рыбу не ловить, не, ничего мы там такого не делали. Мы были загружены работой полностью, потому что, я ж говорю, если взять этот журнал, то здесь по нему видно, что… Ну я еще, мне приходилось быть в рыжем лесу, вот здесь я смотрю, выезжаю на отделение на рыжий лес, вот. А зачем? Тоже на бронетранспортере поехали, за бортом больше рентгена, там свой есть аппарат дозиметрический внутри. Там должны были ставить насосные станции по откачке грунтовых вод.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И надо было нам отвести место площадки, установки этих насосных станций. Ну, я не один, с руководителями был и, это один вопрос, и второй вопрос – рыжий лес начали вырубать и надо было определиться, где лапник надо ложить, потому что бревна – они в одно место а, вот, сам лапник этот надо было захоронить. Они вырыли там рвы и они определили где, на каком расстоянии и захоронили его, собственно говоря. Этот, этот, я когда не работал там, я работал здесь, вот. Ну и там другие, там же есть занятия, учеба всегда, тренировки. У нас были там кислородные изолирующие противогазы, мы с собой брали, даже на станции у меня был кислородный изолирующий, не только у меня, у всего отделения. То есть мы были готовы к тому, чтоб войти в зону, где дышать нельзя, но все-таки можно работать.
В.Н.: Угу.
О.Г.: А так я не помню, чтоб мы во что-то там даже играли и досуга как такового не помню.
В.Н.: А как вас там кормили?
О.Г.: Кормили – ну мы ж сухой паек брали на это, на станцию постоянно. Я помню только, что было много минеральной воды.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И притом “Поляна Квасова”! В то время какие-то такие воды, что, ну, я не знаю, или от радиации, или от этой воды, но у некоторых рак желудка очень… Ну, и радиация влияет так же само. Но, помню, молоко сгущенное там пили, печенье, вафли и вода, а так… А тут уже, в части привозили нам, из-за зоны привозили обед.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И мы обедали. Но на станции несколько раз нам давали талоны, мы ходили в общую столовую станции, там можно было лучше покушать, там было питание лучше (пауза).
В.Н.: Хорошо, а помните, вот, свои первые впечатления, когда вы заехали в зону? Вообще свои впечатления вот именно от того, что вы увидели?
О.Г.: Ну, даже когда мы ехали по Украине, честно говоря, то в городах нас встречали, ну провожали как на фронт, честно говоря. Толпы людей, вот, особенно те, которые знали, что, куда мы едем и те, которые ждали, что уже их люди оттуда выйдут, вот. А так мы ехали в зону, мы ехали в зону в 15-ть, а в 15-ть с чем-то я уже должен был сесть в машину и ехать на вызов.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Ну пусть он был такой нестрашный, но все равно. То есть, надо было как думать? Надо действовать. Но потом же мы готовились, на нас было, во-первых, ситуационный план. Мы сделали здесь, в штабе ситуационный план большой, не на оргстекле, а на этом, белом таком, как он называется, пластике.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Белый пластик. Полностью выгравировали его под… так, чтоб можно было все пожарные гидранты поставить и где они стоят знать. А потому что там уже Ерофеев, вот, полковник нам дал схему, дал поэтажный план, и мы это все сделали, то есть мы уже были готовы. А потом поехали, проверили. Оказывается, эти пожарные гидранты забетонировали вокруг станции полуметровым слоем, тоже к правительственной комиссии. Полковник Михальский у нас руководил профилактикой, доложил. Ну, и вплоть до генерала долбали солдаты, раздалбивали этот бетон и потом, конечно, колонку нельзя установить было нормально, колонка где-то сантиметров 80 с земли, а так она уже сантиметров 10-20 туда опустилась, но все равно эту работу мы проводили, так что скучать нам некогда было.
В.Н.: А ваша семья, жена – знали, вот, что вы едете в Чернобыль в командировку, как она к этому отнеслась?
О.Г.: Так же, как когда я ехал и в Ленинград, и на газовые фонтаны. Ну, я же ездил после этого тоже. Интересно, что когда мы тушили в Кирише, там принимали участие люди, которые работали на атомной станции Ленинградской. И у них была подобная чрезвычайная ситуация, но не с такими последствиями. Но я помню, там подполковник был Александров, и когда мы в марте месяце были в Киришах вместе, а уже в июне я с ним встречаюсь в Чернобыле, он как специалист уже приехал сюда.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И, вот, мы с ним… Так что жена, жена, семья – как всегда. Связи у нас там нормальной не было с ними. Но, может, кто-то мог позвонить когда-то один раз из пункта связи, кому разрешено было, но я не помню, чтоб это было системой, чтоб кто-то звонил там. Телефонов-автоматов там не было, по-моему, ничего такого. Связи не было.
В.Н.: Письма не писали, да?
О.Г.: Письма не писали, не было в этом смысла, вот.
В.Н.: А когда вы вернулись, было ли к вам какое-то особое отношение как к человеку, который побывал в Чернобыле? Вот, среди знакомых, которые там не были, среди, там, соседей может, то есть вот, какое-то окружение?
О.Г.: Нет, было окружение, во-первых, когда мы приехали, то было отношение к нам очень серьезное и вообще в советское время к человеку было другое отношение. Тогда ты знал, что твоими зубами занимается врач и он спрашивает тебя: “Почему ты не пришел?” А сейчас ничего этого нет. И окружение. В больнице нас уважали всегда, чернобыльцев. Но и сейчас у нас есть, допустим, в поликлинике УВД свой врач, он нами занимается. По сравнению с гражданскими мы имеем контроль, наблюдение, вот. Ну и, конечно, соседи все, все относились нормально, да и сейчас к чернобыльцам относятся нормально, может быть, в той степени, что не обеспечено материально настолько, насколько было бы нужно обеспечить, а люди, которые, у которых родственники были в Чернобыле, их уже давно нет, они понимают это. Ну, мне кажется, что здоровье было на первом месте, я ж вам рассказал, как я вырос? Я вырос в лесу, и здоровье у меня было отменное. Потому что, ну, в пожарную охрану не принимали даже тех, кто отслужил армию. Они проходили специальную подготовку, потому что надо было работать в кислородных изолирующих противогазах, это надо было работать на высотах. Ну, потому что человек проверялся, ведь в пожарной охране это не так просто.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Зайти в горящее помещение, где лежит золото, иногда подушки денег и ничего не взять, а если взять, то вынести и отдать хозяину. Когда мы проверяли людей полгода, такого не было, чтобы… Ну, это серьезный человек должен быть, человек, который слушает наших. Ну и сейчас спасательные службы, люди должны быть очень серьезные и проверенные, потому что от этого много зависит.
В.Н.: Ну а как, вот, ваша жизнь сложилась после того, как вы вернулись?
О.Г.: Ну, во-первых, мы сильно болели. Сначала и мы болели здорово. Просто, я говорю, эти рвоты, этот клофелин, он мне заел. Это его давали нам от гипертонии. Но, честно говоря, уже когда я уволился даже, то так: жена приходит с работы – я сижу на диване и уходит – я сидел на диване, понимаешь? И уже понимал тогда, что головная боль такая, что я понимал тех, кто выбрасывается из окон, потому что некоторые пили, понимаешь, болит, а он пьет, а оно еще хуже. И, конечно, последствия, они сказались на семейных отношениях. Много ж чернобыльцев разошлись с женами или из-за пьянства, или из-за потенции, потому что это тоже влияет все. Я, например, когда был в 90-м году на конгрессе “Невада-Семипалатинск” в Алма-Ате, я там выступал и говорил, что все-таки Чернобыль повлияет на потенцию и с годами это будет хуже. Там был один американский ученый, которому я сказал: “Ну, ты не прав, наверное”, – когда мы с ним шли по степи, вот. Но жизнь показала, что если ты употребляешь каждый день средства, которые все время сбивают давление, сбивают давление, то человек никакой человек становится, понимаешь? Так что и это правда.
В.Н.: А вы вообще смогли, вот, после возвращения еще поработать в пожарной части или уже фактически нет?
О.Г.: Нет, я поработал еще, конечно, я поработал. Но уже когда мы играли в волейбол в четвертой части после Чернобыля, судорога так хватала ноги! Когда подпрыгнешь, и одну, и вторую настолько сильно! И я помню, как-то сейф мы начали переносить – рука полностью отказала, понимаешь? И у нас сосуды очень тоненькие, вот. И я работал в 86-й, если мы пришли в 24, еще 8 лет.
В.Н.: Угу.
О.Г.: 8 лет я работал еще. Ну, я 25 лет отслужил все-таки. Ну, конечно, когда в советское время мы имели больше льгот и для восстановления людей после Чернобыля нас все-таки кормили в санаториях очень хорошо: икра красная, черная, все время мясо, вот. Забота была.
В.Н.: А когда вы влились в или присоединились к чернобыльскому движению?
О.Г.: Вы знаете, я слышал по радио, что в Чернобыле академик Лепин, по-моему, да, Лепин, белорус он сам, они образовали “Союз Чернобыль” после, и могут, давали свой адрес, телефон, и я написал им письмо. И они мне прислали и проект устава, все это, и я тут в области начал эту работу.
В.Н.: В 89-м?
О.Г.: В 89-м году, да. Начал эту работу, пошел к начальнику управления Ерофееву, он же тоже чернобылец.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Я говорю: “Ну, вот, “Союз Чернобыль”, такая организация, надо делать”. Он говорит: “Я сейчас с генералом Десятниковым поговорю”, – при мне набирает генерала Десятникова, тот говорит: “Никаких союзов!” Ну, я говорю: “Товарищ полковник, я все-таки в отпуске, я могу заниматься”. И я тогда подошел к Пеньковскому, так, случайно, подошел, наверное, произошло. Мне Глеб Станиславович, директор института «Днепрогипрошахта», я говорю: “Вот так и так, надо…“ – а он тоже чернобылец. И он был депутатом областного совета, комиссия по экологии и руководителем института “Днепрогипрошахта”, говорит: “Давай у меня”. И вот, первое собрание мы собрали у него. И, конечно, на это собрание шли люди в форме, но их не пускало КГБ уже тогда. На пороге их останавливало и не рекомендовало им идти на это собрание. И, честно говоря, базой нашего “Союза Чернобыль” стал этот “Днепрогипрошахты”. Мы вот этот колокол, который, ну, черный колокол такой, да?
В.Н.: Эмблема которая ваша.
О.Г.: Да, это он стал вообще эмблемой Чернобыля. Это Пеньковский Олег Станиславович, мы тогда избрали его первым председателем “Союза Чернобыль” Украины. А, “Союза Чернобыль”, тогда не было «Украины» названия. И он дал команду, они разработали этот колокол и этот колокол пошел по миру. Собственно говоря, мы имели и патент на какое-то время, и потом мы забыли его пролонгировать, но это было. Мы провели первые аукционы там, собирая деньги. На предприятиях тогда было проще: где холодильники, где что, и на шинном заводе мы провели аукционы: тому резину продать, тому… И собрали таким образом первые деньги и сделали союз. Мы написали всем чернобыльцам. Взяли списки, написали письма, карточки. Я могу где-то найти эти карточки – они до сих пор есть, которые нам присылали, что я готов участвовать и так далее, я был там-то, тогда-то, тогда-то. И вот до сих пор некоторые помнят удостоверение, когда даже закон приняли, закон, а этот закон мы в свое время в Киеве корректировали, правили, вот. И когда приняли закон, а власть никак не двинется делать удостоверение, мы заказали там, я помню, бумагу взял на одной фабрике и напечатали удостоверения, и “Союз Чернобыль” Украины в Днепропетровской области выдавал первые удостоверения. Вот сегодня мне даже звонил мужик и говорит: “Вот, я имею третью категорию, но я не имею удостоверения, не имею ничего”. “А что у тебя есть?” “Ничего нет. Ну, у меня было первое такое удостоверение-картонка”.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Он мне и сегодня, помню, когда напоминает, что мы делали тогда, то есть… Первыми мы занялись эвакуированными. Тоже поехали к Нине Ивановне туда. Они были такие активные все. Я, наверное, рассказывал, как мы проводили концерты уже, вот, и как их дети говорили, что те говорят: “Нет города Припяти”, – а дети говорят: “Я из города Припяти, меченый, меченый атомом” – и такой, и все плачут в зале, понимаешь? Ну, вот, вот такие мы, а потом в Павлограде мы такую постановку делали. Ну, в общем…
В.Н.: А почему, вот, вы вообще, как бы, позвонили, да? Отреагировали на вот это радиосообщение? Что, почему, что вас подвигло заняться организацией, фактически организацией, этой организацией чернобыльской?
О.Г.: Ну, наверное, то, что никто не говорил о Чернобыле. Говорили, это просто радиофобия. Тогда же так сказали: это радиофобия, это выдумки, ничего не страшно. Потому мы, зная, я уже тогда, когда на первых порах начал собирать солдат, приезжал даже в 89-м году, помню, на “Победе” я приехал к матери, говорю: “Где ваш сын?” “На срочной службе он умер, нет уже” – говорит. Понимаешь, в 89-м году уже этих ребят нет. То есть, я знал ситуацию, какая она, потому надо было этим заниматься, вот. И все. Ну, и у меня были возможности, я работал в штабе, подо мной была машина, вот, и я мог поехать и послать человека туда, собрать их. Возможность была, чтоб этим заниматься. Хотя руководитель был Олег Станиславович Пеньковский. Он, мы недавно ему… сколько ему? 80, 90 лет было? Или 80 или 90, уже не помнишь когда. Он профессор, доктор наук, и в главной академии мы праздновали. Девяностолетие было.
В.Н.: Юбилей.
О.Г.: Юбилей такой. Ну, у нас были и генералы: Гончаренко, генерал-лейтенант. Он руководитель училища противовоздушной обороны Днепропетровска, а он тоже участник ликвидации и он работал, очень такой простой человек. У нас если Розумов был председатель правления организации, то генерал был его заместителем, понимаете? Но он тоже многое сделал, выбил нам помещение. У нас помещение было возле обладминистрации тогда, при Лазаренко, правда, пришлось нам переехать, он уговорил Лазаренко, чтоб мы переехали в другое помещение. Вот, так что люди были активные. Сейчас они ушли, большинство из них ушло. Ну, есть ж и приспособленцы, ты ему только что-нибудь дай и все, есть люди, которые работают на совесть, не из-за денег, не из-за чего.
В.Н.: Как вы можете охарактеризовать взаимоотношения между различными группами людей, которые пострадали от чернобыльской катастрофы, вот, между ликвидаторами, эвакуированными, переселенцами?
О.Г.: Ну, дело в том, что у нас, допустим, в области с эвакуированными мы всегда занимались. Переселенцев у нас единицы, очень мало. И я думаю, что если говорить о положении в стране, то именно ликвидаторам не была дана оценка. Вообще-то закон мы готовили о ликвидаторах, вообще, закон о ликвидаторах, не о потерпевших. Потом уже представители, наверное, депутаты начали свой электорат поднимать и спорная 54 статья, в которой мы ее делали, в 89-м, в 90-м году, наверное, 54 статья говорит так, что у ликвидатора пенсия рассчитывается по его заработной плате в Чернобыле. Но в то время ко мне подошли солдаты, говорят: “У нас нет заработной платы”, – колхозники: “У нас, – говорит, – семьдесят трудодни или семь, какая у нас заработная плата?” – и тогда мы внесли. Но сейчас десять, восемь, шесть, но тогда не было десять, восемь, шесть, я не помню эти показатели уже, но они были тоже, что не менее десять, восемь, шесть минимальных заработных плат. Но в каком-то году уже на уровне, я знаю, Яценко Виктор Михайлович, Владимир Михайлович, он предложил, он был председатель комитета этого по Чернобылю, внести туда инвалидов, проживающих на загрязненных территориях. Но у инвалидов, проживающих на загрязненных территориях, нет заработной платы, понимаешь? Они их внесли в десять, восемь, шесть. На каком основании? И, вот, если б вопрос ликвидаторов был закрыт, то никаких противоречий ни у кого б не возникало. Можно было б дальше заниматься и эвакуированными, и людьми второй категории, потому что мне говорят: “Инвалиды, вот, инвалиды, они получают, а мы нет”, – вторая категория. Я говорю: “Ведь это не каста чернобыльская – инвалиды. Это люди, которые имеют заболевание, которые обострены или онкология, или что-то другое. И каждый из вас со второй категорией при таком заболевании будет иметь инвалидность, то есть вы переходите в инвалиды”. Но вместе с тем много людей второй категории также имеют малые пенсии – тысячу триста, тысячу пятьсот, если они не заработали рабочую пенсию большую. Они ее многие не заработали, потому что они сначала пыжились, работали, потому что семья, дети, надо было накормить и только шахтеры, у которых в советское время ушло и шахты закрывались, и они заполнили больницы, они сделали себе инвалидность, сделали все, потому что они и так не очень здоровы были в этих шахтах.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И они все получили, шахтеры. А вообще-то вторая категория – она пыжилась, работала, тянула, тянула, а дотянула до пенсии – ничего не получается. А еще наше законодательство: допустим, 57 статья говорит о том, что человек, который проработал 20 лет и за каждый год он имеет один процент от своей заработной платы получить дополнительно, это чернобылец.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Ну, законодательство так сделали, что сравняли чернобыльца с простым гражданином, 168 гривен, все. Хотя это не так должно было быть. То есть, а противоречия – я выступал много и на фейсбуке, и говорю: “Эвакуированные десятикилометровой зоны – это люди, которые, считай, приравнены в какой-то степени к ликвидаторам”. Но надо понять: ликвидатор – это человек, которого подняли с постели, от жены, и бросили на ликвидацию. Человек, которого увозили, эвакуированного даже, или переселенного – это совсем другие вопросы. Понимаете, потому что это совсем другие люди! И всегда ликвидатор, он должен быть более обеспечен законодательством, социальными благами и пенсионным обслуживанием, чем эвакуированные и переселенцы. А когда по 54 статье сравняли эвакуированных, ликвидаторов и переселенцев, то получилось так, что там законодательство было не совсем понятным. Когда минимальная заработная плата была 14 гривен, то 10 на четырнадцать – это 140 гривен, а когда минимальную заработную плату приравняли к прожиточному минимуму, то это уже получилось на 3 тысячи, да? Или на 2 тысячи, там, на 3 тысячи возьмем, 10 по 3 тысячи – сколько там? Тогда не 3 тысячи было, а меньше было.
В.Н.: 700 гривен, может, где-то.
О.Г.: Ну даже 700 гривен, даже тысяча – это 10 тысяч.
В.Н.: Угу.
О.Г.: Вот, тысяча – 10 тысяч, а там некоторые постановы были, которые гласили о том, чтобы минимальную заработную плату увеличить чернобыльцам в три раза, и это получилось 30 тысяч. И в итоге в населенных пунктах зоны оказались люди, семьи, в которых три человека – инвалиды и все получают по 30 тысяч по судам, понимаешь? Государство это не выдержало. Ликвидаторы были бы обеспечены – это один вопрос, но когда случилось так, то закон был отменен постановой 12-10, и государство определило формулу, по которой считается пенсия, и здесь выиграли атомщики, работники станции некоторые и шахтеры, директора, у которых были большие оклады, и они все получили максимальные пенсии. А рядовые, даже инвалиды, они получили пенсию, ну, если получалось так, что по третьей группе инвалидности человек получает 10 тысяч, а по первой группе инвалидности человек получает две с половиной тысячи. Понимаешь, такая разница?
В.Н.: Угу.
О.Г.: Я, ну, это законодательство все, я не знаю, насколько оно тебе это надо, но все дело в законодательстве. М я и говорил, что отпустите ликвидаторов-инвалидов, потому что они уходят, их нет. Но сейчас переселенцы – мы главные, вдовы говорят – мы главные, а ликвидаторы… Ну, тут перекос еще такой есть, что, допустим, по постанове 12-10, от одиннадцатого года, вдова может получить пенсию гораздо выше, чем ее муж получал. Почему? Потому что по 12-10 насчитывают мужу, допустим, 30 тысяч пенсии, а ограничено десятью минимальными заработными платами, или пенсиями за виком, ограничение. Он получает, допустим, 12 тысяч, 15 тысяч, я сейчас не помню сколько, минимальная. Но когда он умирает, жене рассчитывается 50 процентов с общей, той заработной платы, общей пенсии, которая была ему насчитана. И получается, что она получает 15 тысяч. Ликвидатор получает второй категории 1500, а жена получает 15 тысяч, вдова. Понимаешь, все это настолько неправильно!
В.Н.: И запутано.
О.Г.: И запутано, и неправильно, и на социальном уровне противоречиво и несправедливо. Потому сейчас и добивается ликвидатор, потому идет вот эта борьба между вдовами, эвакуированными, переселенцами. Оно не борьба, а просто ну людей достали.
В.Н.: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, для будущих поколений, которые, ну, которые родились после 86-го года, которые родятся еще в будущем, что они должны знать о Чернобыле? Вот, что надо, по вашему мнению, писать в учебниках о Чернобыле, об этом событии?
О.Г.: Ну, во-первых, они должны знать и зарубить себе на носу, что надо хорошо учиться, это главное. И если ты специалист и есть какой-то регламент, разработанный учеными, по объектам с тонкой технологией, то ты должен этот регламент соблюдать, несмотря на то, что кто-то тебе может сказать: “А давай нарушим, давай то, то, се”. Нет! И, исходя из Чернобыля, прежде чем куда-то ехать, чем-то заниматься, особенно женщинам, девушкам, таким участиям в таких ликвидациях последствий, надо глубоко подумать, задуматься. Потому что последствия могут быть очень серьезные, которые будут откликаться в детях, в детях, внуках, неизвестно еще как оно себя покажет. Я за границей даже говорю, что вы знаете, у нас сейчас нет учета детей, которые после 18-ти лет, они дети участников ликвидации, их не учитывают, медицинского надзора за ними нет. Они выходят замуж, даже у вас здесь, а что, в конце концов, получается? Я говорю, я понимаю – любовь любовью, но все-таки надо продумывать и этот вопрос. Ты способен на то, что ты будешь воспитывать ребенка неполноценного или больного? Вот у меня был случай с этим. У меня друг есть, Насонов Женя, он подводник. Ну, у них была внештатная ситуация на судне, и, вот, он женился, и говорит: “Поехали, жена рожает, давай бутылку выпьем – и поехали”. Радость! Приехали мы, машину отпустили. Смотрим что-то, ходим, ходим, а она ж коридоре лежит, что-то такое. Потом, когда начали разбираться – родился, да, ребенок: заячья губа, волчья пасть, недоразвитость конечностей (выдыхает). А мы машину отпустили, они говорят: “Надо хирург, чтобы определить…”, – ищем машину, такси. Женя побежал, а я остался с этой медсестрой в роддоме, она говорит: “Вот как чернобыльцы – так у нас такие проблемы”. То есть, эти проблемы тоже замалчиваются, сколько людей родили таких детей, которые… Это тоже ребенок, но беда в том, что она наблюдалась в поликлинике, частной, платила большие деньги, он и сейчас плавает за рубежом, ходит на судах, ходит, по тысячу долларов давал за это все, все, и наблюдался, а в итоге что получилось. И она говорит, что как только чернобыльцы, мы опасаемся вот этих вещей, которые, вот, проявляются. Ну и сколько их отказалось от этих детей? Он умер через месяц, он умер, но с него вытянули большие деньги, чтоб он… То есть что будет дальше? Непонятно, потому что надо было этот контроль вести.
В.Н.: Угу.
О.Г.: И человеку знать надо, что родословная: есть ликвидаторы, человек эвакуирован. Несправедливо, нет, но можно по любви – пожалуйста, тогда отвечайте. Но все-таки разум – он преобладает в этом случае. Конечно, она родила на следующий год ребенка полноценного, нормального.
В.Н.: Решились все-таки, да?
О.Г.: Да, решились. Так что вот такие дела.
В.Н.: Такой еще один вопрос, последний, по поводу мероприятий, которые ежегодно проводятся к памятным датам: 26 апреля, 14 декабря, вот. Как вы относитесь к этим мероприятиям, как вы считаете, какие они должны быть? Вот, всем в Украине известно, вы проводите регулярно “Чернобыльские мотивы” фестиваль, да? То есть, может, об этом тоже расскажите немножко, пожалуйста.
О.Г.: Ну, дело в том, что… Мероприятие. Есть у Сенчучки стих: “В календаре даты Чернобыля, я их парадности боюсь. На письменном столе черемуха – закрою дверь и помолюсь”. То есть в этом суть, что что-то с этого делать такое нельзя, но для того, чтоб помнили люди, вот, мы проводим фестиваль песни, стихов, но у нас тематика направленная, Чернобыль. И те, кто ликвидаторы, эвакуированные, они смотрят, вспоминают своих близких. Как одна женщина говорит: “Вот, я побывала на фестивале, теперь я, – говорит, – месяц таблетки не буду употреблять, я получила эмоционально какой подъем, что меня не забыли”. Вот, то есть это надо делать, нельзя, как бы, закупорить это дело в какую-то… закрытое пространство, Чернобыль. Надо, чтобы дети у нас на фестивале поют, рассказывают стихи о Чернобыле, они сопереживают, они помнят, они помнят своих родственников, вот. И, я думаю, с них вырастут хорошие люди, это самое главное. А тему забывать нельзя и делать надо все возможное. Сначала было много, честно говоря, когда я сказал, что мы будем проводить фестиваль “Чернобыльские мотивы”, многие мне сказали: “Ты что, с ума сошел? Такого нельзя делать!” Потом прошел год, они, когда посмотрели фестиваль, сказали: “Ух, как вы правы были, что это надо делать! Мы чувствуем себя героями на этом мероприятии”. Там же у нас и идет гала-концерт, когда присутствуют, ну, 350 ликвидаторов с орденами в зале, и когда они видят постановку, например, там, у нас с Никополя девочка поставила как она пожарная, жена пожарного ждала его, как она ехала за ним в Москву, как она сопереживала и как он ушел. Она ночь была с ним и утром пошла отдохнуть, а приходит – его уже нет, ты понимаешь? И зал… Ну это надо делать, чтоб это не… А потом – много ж книг написано, много стихов. Ну, бывает, люди не совсем, но для памяти много сделано и в Донецкой области, он много сделалось, где-то 8 сборников написалось о Чернобыле, и там они рассказали об участии своем в фестивале “Чернобыльские мотивы”, и они уже рассказывают, понимаете?
В.Н.: Угу.
О.Г.: Вот, то есть… Газета – говорят: “Не надо газету”. Но, конечно, она не становится, как бы, коммерческой. Сейчас даже рекламная газета не становится коммерческой. Но информацию люди получают, могут написать статью, хотя сейчас очень плохо пишут. Говорят: “Да, да, да”, – а потом нет. Ну, все это надо делать, поскольку мы еще живы, мы еще делаем. Те же памятники строят люди, вон, Лисьян был сегодня, Саша, он взялся – и памятник в Жовтневом районе сделали. А три человека, которые делали этот памятник, их уже нет, они ушли, они были самыми-самыми, когда даже устанавливали. Там Николай Николаевич был у них, и памятник пошатнулся, все ж кинулись, а он удержал этот памятник, как бы, и все вместе. Ну, и молодежь приходит, убирает цветы, садит. Пусть пока по принуждению. А выставка, вот, “Чернобыль. Люди. Место. Солидарность. Будущее” Дортмундского международного образовательного центра тоже играет свою роль, и когда у нас была расположена в школе, и мы получили экскурсовода, школьника, которые рассказывали о Чернобыле, и у нас есть в 3D это все, вот. Это здорово, уже одно поколение школьников-экскурсоводов вышло, знает тему досконально, теперь другое поколение учит там, и они приглашают другие школы, приезжают и люди, дети их слушают, потому что это школьники. Даже лектор, дядя большой, и то дядя, а школьник когда говорит, то слушают по-другому, истина там выплывает сразу, ее понимают (пауза).
В.Н.: Спасибо большое, хотите еще что-то добавить?
О.Г.: Да что можно добавить? По-моему, может, потом. Конечно, вот эта говорила Нина Ивановна про Сенчучку, Лидию Сенчук, о ее стихах, о… Ну, конечно, ее муж был строителем-ликвидатором, и он два года работал на станции и если кто-то приезжал на месяц, как я, то он им всем рассказывал, что надо делать, и он такой был активный мужик, чернобылец. Я с ним пересекался очень много раз, одно дело делали вместе, и он хотел делать, он специалист был, понимаешь, вот такой мастер. Вот есть слово “мастер”, понимаешь?
В.Н.: Угу.
О.Г.: Вот он был мастером, он что не возьмет, он все может сделать. И я ему говорю: “Толя (стучит пальцем по столу), иди в больницу, не шути с этим”. “Пока руки могут, я денег заработаю, меня это не волнует”. И он до конца работал, пока повернулся вправо – одно ребро сломалось, повернулся влево – другое ребро сломалось, вот. И в больницу, в больнице ищут-ищут – ничего не нашли, звонит мне Лида и говорит: “Позвони в больницу, потому что они говорят, что месяц назад мы были, но ему же хуже, они ж ничего найти не могут”. А у него рак крови и рак кости, понимаешь? И сели мы вместе, поставили бутылку водки, она говорит: “Или лечиться, или идти по друзьям как в том фильме, знаешь?” Ну, правда, семья настояла на том, чтоб он лечился, это им вылилось в копеечку. Но он прожил еще около двух лет, вот, но тоже был возмущен той пенсией, которая ему назначена, когда ему химиотерапия стоила в районе 4 тысячи и поддержка сердца – еще 800, а он вообще 4 тысячи получал, и это несоизмеримые величины. Ну, в конце там ему чуть больше начали платить, пока как раз по этой постанове 12-10 ему стали больше платить. Так что не все, как бы, есть недовольные этой постановой, но не для всех она плохая.
В.Н.: Угу.
О.Г.: В данном случае человеку помогла, хоть в конце жизни он как-то мог… Ну так умер, специалист, а она стихи писала, даже еще в Припяти стихи писала, вот. Талантливая, но, правда, в последнее время занялась Богом, отдала свою душу именно этой, ну… Ну, может, и это надо, не знаю.
В.Н.: У каждого свой путь в этом отношении.
О.Г.: И мы были в этой церкви протестантской или какой, я даже не знаю какая, пятидесятников, наверное. И… (звонит телефон). Я занят, перезвоню. И когда в этой церкви зал и скамейки поваренные одна к одной, уголочки там выдержаны, все. И мне говорят: “Это ж Толя поварил, это Толя все сделал”, – понимаешь? “У нас есть и шалаш, который мы вывозим на свои мероприятия, – говорит, – так Толя его все сделал, оно все подходит, оно все…” Вот такой он чернобылец! “А когда, – говорит, – Чернобыль произошел, я смотрю – дымит и говорит: Чернобыль, а я ж строил эту станцию, я не мог поверить, что плита, которая она как состав грузовых вагонов весом, что она поднялась. Я не мог поверить в это никогда. Ты б мне там сказал, что там такое, я б не мог поверить в это”. То есть, и, я говорю, человек ушел, ушел мастер.
В.Н.: Да, хорошо, на этом будем заканчивать?
О.Г.: Будем. Чай попьем, он уже остыл, мы можем подогреть.
В.Н.: Хорошо, спасибо.